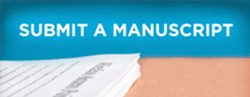Safety monitoring of antiarrhythmic therapy: current state of the problem. A review
- Authors: Enenkov N.V.1, Seleznev S.V.1, Shchulkin A.V.1, Filonenko S.P.1, Yakushin S.S.1
-
Affiliations:
- Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
- Pages: 230-239
- Section: Reviews
- Submitted: 11.01.2025
- Accepted: 22.06.2025
- Published: 26.06.2025
- URL: https://cardiosomatics.ru/2221-7185/article/view/645388
- DOI: https://doi.org/10.17816/CS645388
- EDN: https://elibrary.ru/JXARCC
- ID: 645388
Cite item
Full Text
Abstract
Antiarrhythmic therapy is associated with a high risk of adverse effects, including extracardiac and cardiac (particularly proarrhythmic) complications, as well as events related to drug–drug interactions. Currently, safety monitoring during treatment with antiarrhythmic drugs (AADs) includes electrocardiographic surveillance and assessment of hepatic, renal, thyroid, and pulmonary function, along with screening for underlying cardiac pathology, including latent conduction system disorders (eg, congenital long QT syndrome). However, these measures do not always prevent adverse drug reactions. A search was conducted in PubMed and eLibrary for the period from January 2019 through December 2024 (in some cases, because of the limited number of sources, the range was extended). The total search depth spanned 1979–2024. This review summarizes contemporary approaches to safety monitoring for the most commonly prescribed AADs in clinical practice, including class IC agents (propafenone, lappaconitine hydrobromide, and diethylaminopropionylethoxycarbonylaminophenothiazine) and class III agents (amiodarone and sotalol). Prospects for implementing therapeutic drug monitoring and pharmacogenetic testing of AADs are also discussed.
Full Text
Введение
Фармакотерапия нарушений сердечного ритма относится к одной из ключевых проблем современной кардиологии [1]. Важная роль в симптоматической и профилактической терапии аритмий отводится антиаритмическим препаратам (ААП). Кроме того, некоторые ААП могут предупреждать развитие жизнеугрожающих аритмий и внезапной сердечной смерти [2]. С каждым годом растёт частота применения ААП. Согласно результатам исследования, проведённого в США, частота назначения ААП с 2004 по 2016 год утроилась за счёт увеличения частоты назначений амиодарона и соталола [3]. Аналогичные результаты были получены в Дании, где продемонстрирован рост применения ААП на 16% за 19 лет, главным образом за счёт увеличения частоты использования амиодарона [4].
Применение ААП всегда сопровождается высоким риском развития побочных эффектов, среди которых выделяют три группы: экстракардиальные и кардиальные (в том числе проаритмические) осложнения, а также осложнения, связанные с межлекарственными взаимодействиями [5]. Поскольку многие ААП обладают узким терапевтическим диапазоном [6], относительная передозировка может возникать вследствие индивидуальных особенностей биотрансформации лекарственных веществ, изменения метаболизма вследствие лекарственных взаимодействий, нарушения выведения лекарственных препаратов на фоне дисфункции почек. На этом фоне риск нежелательных лекарственных реакций может существенно повышаться. Так, в исследовании ГРОЗА (2020) продемонстрировано развитие брадиаритмий вследствие относительной передозировки препаратов с брадикардитическим действием [7]. Кроме того, в исследовании F. Wang и соавт. зафиксировано, что в период с января 2016 года по июнь 2022 года в базе данных FAERS было зарегистрировано 70 100 нежелательных явлений, связанных с ААП, и 177 896 сообщений о нарушениях сердечного ритма, то есть о возможном проаритмогенном эффекте [8]. Однако, несмотря на предпринимаемые меры по контролю безопасности антиаритмической терапии, далеко не во всех случаях удаётся избежать развития нежелательных лекарственных реакций.
Целью настоящего обзора является анализ данных литературы о частоте встречаемости побочных эффектов наиболее часто назначаемых в клинической практике ААП — классов IC и III, — а также способах контроля безопасности антиаритмической терапии.
Методология поиска источников
Проводился отбор литературы по базам данных PubMed и eLibrary в период с января 2019 по декабрь 2024 года (в ряде случаев, в связи с ограниченным количеством источников, диапазон увеличивался). Глубина поиска источников — с 1979 по 2024 год.
Поиск литературы включал два этапа: оценка побочных эффектов ААП (а также частоты их возникновения) и подходы к оценке безопасности ААП. Для поиска использовались следующие ключевые слова: побочные эффекты (side effects), безопасность (safety), антиаритмические препараты (antiarrhythmic drugs), пропафенон (propafenone), диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (diethylaminopropionylethoxycarbonylaminophenothiazine), лаппаконитина гидробромид (lappaconitine hydrobromide), амиодарон (amiodarone), соталол (sotalol), терапевтический лекарственный мониторинг (therapeutic drug monitoring).
Критерии включения: полнотекстовые оригинальные статьи на английском и русском языках.
Критерии невключения: тезисы конференций, редакционные статьи, информационные бюллетени, книги и главы книг.
Всего было получено 306 статей из двух баз данных онлайн: PubMed (n=213) и eLibrary (n=93). Удалено 105 дубликатов. После оценки названия и аннотации статей 68 работ были исключены. Полные тексты остальных 133 статей были получены и тщательно проверены. Из них только 58 статей, в результате консенсуса всех авторов настоящего обзора, были отобраны для включения в данное исследование (табл. 1).
Таблица 1. Количество найденных публикаций, касающихся безопасности антиаритмической терапии, в базах данных PubMed и eLibrary
Table 1. Number of publications found regarding the safety of antiarrhythmic therapy in the PubMed and eLibrary databases
Ключевые слова | Антиаритмическая терапия | Пропафенон | Этацизин1 | Лаппаконитина гидробромид | Амиодарон | Соталол |
Побочные эффекты | 14/3 | 17/4 | 5/2 | 5/2 | 134/15 | 22/5 |
Контроль безопасности | 3/2 | 23/4 | 4/2 | 5/2 | 41/4 | 6/2 |
Терапевтический лекарственный мониторинг | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 20/5 | 2/1 |
Примечание. Формат записи Х/У, где Х — количество найденных публикаций, У — количество отобранных публикаций для написания обзора.
Обсуждение
В Российской Федерации наиболее часто используются ААП классов IС, II и III. В данной статье мы остановимся на побочных эффектах и контроле безопасности применения следующих лекарственных препаратов: пропафенон, диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин (этацизин®1, АО Олайнфарм, Латвия), лаппаконитина гидробромид, амиодарон, соталол.
Антиаритмические препараты IC класса
Препараты IC класса являются сильными ингибиторами быстрых натриевых каналов в мембранах рабочих кардиомиоцитов. Они противопоказаны пациентам, имеющим органические изменения в миокарде, к которым относят сердечную недостаточность со сниженной фракцией выброса (менее 40%); острый коронарный синдром, инфаркт миокарда в анамнезе, недавний инфаркт миокарда (в течение последних 6 месяцев) и выраженную гипертрофию левого желудочка (утолщение стенок более 14 мм). Стоит отметить, что артериальная гипертензия без выраженной гипертрофии левого желудочка не является противопоказанием к назначению препаратов данного класса [9].
Пропафенон
Пропафенон — препарат IC класса, который используется как в Российской Федерации, так и в международной практике. Экстракардиальные побочные эффекты пропафенона включают головокружения (до 15%), которые являются общим побочным класс-эффектом ААП IC класса, желудочно-кишечные расстройства (до 10–12%) и металлический привкус во рту (до 8%) [5]. Кроме того, описаны эпизоды обмороков на фоне приёма пропафенона [10]. К кардиальным побочным эффектам пропафенона относят проаритмические осложнения, включая индукцию синусовой брадикардии (до 10%), фибрилляции/трепетания предсердий (до 9%), желудочковой тахикардии (до 10%), в том числе полиморфной веретенообразной (torsades de pointes, TdP) [11]. Кроме того, данный ААП приводит к снижению сократимости миокарда и нарушению внутрижелудочковой проводимости за счёт ухудшения проводимости в системе Гиса–Пуркинье (см. табл. 1). Показано, что среднее время развития проаритмогенного эффекта от начала приёма составило 112 дней [8].
Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин
Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофено-тиазин относится к отечественным ААП IC класса. К наиболее частым экстракардиальным побочным эффектам препарата относят неврологические расстройства (головокружения у 10% пациентов, иногда диплопия), а также желудочно-кишечные расстройства (до 5%) [5]. Кардиальные побочные эффекты включают проаритмические осложнения (7–28%) [12], снижение сократимости миокарда и нарушение внутрижелудочковой проводимости (табл. 2).
Таблица 2. Кардиальные побочные эффекты антиаритмических препаратов IC класса [5, 12, 13]
Table 2. Cardiac side effects of antiarrhythmic drugs class 1C [5, 12, 13]
Антиаритмический препарат | Брадиаритмия | ФП/ТП | ЖТ | TdP | Снижение сократимости | Нарушение ВЖП |
Пропафенон | 0,7–10% | 0–9% | 0–10% | НД | + | + |
Этацизин® | 2% | НД | НД | НД | + | + |
Лаппаконитина гидробромид | НД | НД | НД | НД | НД | НД |
Примечание. ФП — фибрилляция предсердий, ТП — трепетание предсердий, ЖТ — желудочковая тахикардия, TdP — torsades de pointes, ВЖП — внутрижелудочковая проводимость, НД — нет данных.
Лаппаконитина гидробромид
Лаппаконитина гидробромид также является отечественным ААП. Его применение ассоциировано с высоким риском развития как кардиальных (брадикардия, экстрасистолии и др.), так и экстракардиальных побочных эффектов (нарушение аккомодации у 47% пациентов, головокружение у 42%, головная боль у 13%, диспепсические явления у 6% и др.). По данным С.Ф. Соколова, частота нежелательных лекарственных реакций у пациентов, принимающих этот ААП, в общей популяции составляет 31,2% [13]. Однако в доступной литературе нет данных о частоте встречаемости проаритмических осложнений на фоне терапии лаппаконитина гидробромидом.
Контроль безопасности антиаритмических препаратов IC класса
К классическим методам контроля безопасности терапии при назначении ААП IC класса относится контроль параметров электрокардиограммы (ЭКГ) через 3 дня после назначения, и далее каждые 6 месяцев [14]. При появлении на ЭКГ атриовентрикулярной блокады (АВ-блокады) II степени и выше, признаков нарушения внутрижелудочковой проводимости (ВЖП, расширение комплекса QRS >20%), удлинения интервала P–Q >50% по сравнению с исходными значениями, а также при урежении частоты сердечных сокращений менее 50 в минуту необходимо уменьшить дозу препарата или рассмотреть вопрос о его отмене [15]. Кроме того, за счёт метаболизма ААП IC класса в печени важно контролировать её функции (уровень активности трансаминаз).
Согласно консенсусному документу Европейской ассоциации кардиологов и фармакологов (2018), для ААП IC класса предикторами повышенного риска желудочковой проаритмии являются следующие клинические признаки:
- нарушение ВЖП (исходная ширина комплекса QRS >120 мс);
- структурные заболевания сердца;
- дисфункция левого желудочка (фракция выброса <40%);
- тахиаритмия с быстрым желудочковым ответом;
- высокая доза препарата или быстрое увеличение дозы;
- желудочковые тахиаритмии в анамнезе;
- одновременное лечение препаратами с отрицательным инотропным действием [7].
Антиаритмические препараты III класса
ААП III класса являются преимущественно блокаторами калиевых каналов, увеличивают продолжительность потенциала действия и эффективный рефрактерный период, что проявляется на ЭКГ в виде удлинения интервала Q–T [5].
Амиодарон
Амиодарон представляет собой йодированное производное бензофурана со структурой, сходной с гормонами щитовидной железы [16]. Данный ААП обладает широким спектром побочных эффектов. Профиль экстракардиальных побочных эффектов намного выше, поскольку амиодарон обладает высокой липофильностью и накапливается в жировой ткани, а также в органах с высокой перфузией, таких как печень, лёгкие, селезёнка или кожа (табл. 3). Нежелательные лекарственные реакции чаще отмечаются при длительной терапии и приёме высоких доз. Таким образом, при приёме амиодарона обязателен тщательный мониторинг побочных эффектов [17].
Таблица 3. Побочные эффекты амиодарона [6, 18, 19]
Table 3. Side effects of amiodarone [6, 18, 19]
Побочное действие | Частота |
Микроотложения в роговице | >90% |
Оптическая нейропатия/неврит | <1–2% |
Гипотиреоз | 5–10% |
Гипертиреоз | 0,9–10% |
Фоточувствительность | 25–75% |
Изменение цвета кожи на сине-серый | 4–9% |
Лёгочная токсичность | 1–17% |
Повышенный уровень активности печёночных ферментов | 15–30% |
Гепатит и цирроз печени | <3% |
Тремор и атаксия | 3–35% |
Периферическая нейропатия | 0,3% |
Брадикардия и АВ-блокада | 3–5% |
TdP | <1% |
Артериальная гипотония (при внутривенном введении) | 15–26% |
Примечание. TdP — torsades de pointes, АВ — атриовентрикулярная.
Кардиальные побочные эффекты амиодарона включают брадикардию, АВ-блокаду, удлинение интервала Q–Tс. Риск TdP низок (<0,5%), вероятно, из-за бета-блокирующего и кальций-блокирующего эффектов препарата (табл. 4). Большинство экстракардиальных побочных эффектов связаны с кумулятивной дозой и иногда могут быть обратимыми при отмене препарата. По данным F. Wang и соавт., именно приём амиодарона инициирует широчайший спектр нарушений сердечного ритма. Кроме того, среднее время развития проаритмогенного эффекта от начала приёма составило 46 дней [8].
Таблица 4. Кардиальные побочные эффекты антиаритмических препаратов III класса [5, 8, 40]
Table 4. Cardiac side effects of antiarrhythmic drugs class III [5, 8, 40]
Антиаритмический препарат | Брадиаритмия | ФП/ТП | ЖТ | TdP | Снижение сократимости | Нарушение ВЖП |
Амиодарон | 3–20% | НД | НД | 0,7–1,5% | ↓ | ↓ |
Соталол | 1,5–17,1% | НД | НД | 0,2–23,6% | ↓ | ↓ |
Примечание. ФП — фибрилляция предсердий, ТП — трепетание предсердий, ЖТ — желудочковая тахикардия, TdP — torsades de pointes, ВЖП — внутрижелудочковая проводимость, НД — нет данных.
В лёгких на фоне терапии амиодароном могут развиваться интерстициальный пневмонит, лёгочный фиброз, острый респираторный дистресс-синдром. Изменения в лёгких, связанные с воздействием данного препарата, получили название «амиодароновое лёгкое» [20]. При спирометрии наблюдаются рестриктивные изменения (снижение жизненной ёмкости лёгких), а также наблюдается снижение диффузионной способности лёгких. Факторы риска лёгочной токсичности включают: недавно перенесённое кардиоторакальное хирургическое вмешательство, пожилой возраст, высокая суммарная доза препарата (более 400 мг/сут), длительность терапии более 6 месяцев [21, 22].
Амиодарон оказывает токсическое воздействие на щитовидную железу, поскольку представляет собой соединение, богатое йодом (37,3% его молекулярной массы). Пероральная терапия в низких дозах (200 мг в день) может увеличить суточное потребление йода в 50–100 раз. Амиодарон ингибирует превращение тироксина в трийодтиронин за счёт взаимодействия с йодтирониндейодиназами, а также нарушает проникновение тиреоидных гормонов в клетки [23]. Более ранние оценки предполагали, что общая частота дисфункции щитовидной железы, вызванной амиодароном, колеблется от 2 до 24% [24, 25]. В более поздних обзорах литературы отмечается, что гипотиреоз встречается у 5–10% пациентов, принимающих амиодарон, а гипертиреоз — у 0,9–10% [26]. Эти различия могут отражать преобладание более консервативных режимов дозирования препарата в последние годы.
Были предложены различные алгоритмы мониторинга функции щитовидной железы у пациентов, принимающих амиодарон. Для выявления существовавшего до начала терапии заболевания щитовидной железы важны тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование. Ряд авторов рекомендует оценивать концентрации сывороточных тиреотропного гормона, тироксина и трийодтиронина [27], другие предлагают также оценивать антитела к тиреопероксидазе, которые обычно ассоциируются с тиреоидитом Хашимото [28]. Примечательно, что имеются отличия между значениями тестов, отражающих функцию щитовидной железы до и после 3 месяцев от начала терапии амиодароном (табл. 5).
Таблица 5. Влияние амиодарона на функцию щитовидной железы [29]
Table 5. Effect of amiodarone on the thyroid system [29]
Гормон | Ранние эффекты (≤ 3 месяцев) | Поздние эффекты ( >3 месяцев) |
Общий и свободный Т4 | Увеличение на 50% от ВГН | Увеличение на 20–40% ВГН |
T3 | В пределах нормы | В пределах нормы |
rT3 | Увеличение на 200% ВГН | Увеличение на 150% ВГН |
ТТГ | Увеличение на 20–50% ВГН | В пределах нормы |
Примечание. Т4 — тироксин, Т3 — трийодтиронин, rT3 — рецепторы к трийодтиронину, ТТГ — тиреотропный гормон, ВГН — верхняя граница нормы.
При наличии нормальных исходных значений данных показателей необходимо контролировать концентрацию тиреотропного гормона в сыворотке каждые 6 месяцев [29].
Фототоксические реакции — наиболее распространённый побочный эффект терапии амиодароном, возникающий у 25–75% пациентов при длительном лечении. Они появляются в среднем через 4 месяца терапии амиодароном и имеют типичный эритематозный или экзематозный вид с сопутствующим зудом в местах, подверженных воздействию солнечных лучей, обычно на руках, лице и шее. Симптомы начинаются через несколько минут после воздействия солнечного света, продолжаются до 24 часов и проходят примерно через 48 часов, но в некоторых случаях сохраняются до 72 часов [30].
Амиодарон может вызывать отложение микропреципитатов в роговице, неврит зрительного нерва и его атрофию с потерей зрения. В исследовании L. Johnson и соавт. было показано, что более чем у 10% пациентов в начальной стадии амиодарон-ассоциированной оптической нейропатии никаких визуальных симптомов не отмечается [31]. Считается, что офтальмологические обследования в течение первых 12 месяцев и, особенно, в течение 4 месяцев после начала приёма амиодарона должны улучшить раннее выявление амиодаронассоциированной оптической нейропатии [32].
Влияние амиодарона на печень варьируется от бессимптомного повышения уровня активности трансаминаз (25%) до тяжёлого поражения печени (1–3%). Механизм повреждения печени амиодароном неясен, можно предположить, что он связан с иммуноопосредованным повреждением гепатоцитов. Крупное ретроспективное когортное исследование показало, что применение амиодарона может быть ассоциировано со злокачественными новообразованиями печени и внутрипечёночных желчных протоков дозозависимым образом [32]. Они встречаются чаще в случаях наличия сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет, хронические заболевания печени (цирроз, гепатит C, гепатит B) [32]. Кроме того, при длительном приёме амиодарона имеется риск возникновения опухолевых заболеваний (кожи, лёгких), особенно у мужчин, что связывают с высокой дозой препарата [33].
В литературе описаны случаи острого панкреатита, ассоциированного с приёмом амиодарона, однако точный механизм его развития неизвестен. Предполагаемые причины включают прямую токсичность амиодарона и его метаболита (N-дезэтиламиодарон). В описанных клинических случаях улучшение отмечалось после отмены препарата [35, 36].
Кроме того, амиодарон может вызывать повышение концентрации креатинина за счёт частичного ингибирования системы переносчиков органических катионов в почечных канальцах.
Большинство указанных состояний, за исключением злокачественных опухолей, обратимы, и симптомы улучшаются при отмене препарата.
Контроль безопасности амиодарона
Рекомендуется проводить оценку ЭКГ (первые 3 дня приёма; затем через 1 и 4 недели, далее каждые 6 месяцев), рентгенографии органов грудной клетки (один раз в 6 месяцев или при появлении у пациента симптомов нарастания одышки и кашля), функций щитовидной железы (один раз в 6 месяцев). Кроме того, с целью профилактики развития фототоксических реакций рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце (или же пользоваться солнцезащитными средствами). Ежегодный осмотр окулиста необходим с целью выявления значительных отложений в роговице либо развития нарушений зрения [14].
Солатол
Соталол по классификации M. Vaughan Williams относят к ААП III класса [37]. Профиль побочных эффектов соталола обусловлен механизмами его действия как в качестве блокатора калиевых каналов, так и в качестве некардиоселективного β-адреноблокатора. Экстракардиальные эффекты включают развитие гипотонии (20%), бронхоспазма (7%), нарушения сна (8%), желудочно-кишечных расстройств (6%), феномена Рейно (2%) [5].
К кардиальным побочным эффектам относят развитие брадикардии (до 17,1%), TdP (до 23,6%). Доказано, что удлинение интервала Q–T на фоне приёма соталола напрямую связано с его концентрацией в сыворотке крови [38] и чаще наблюдается при внутривенном введении. Проаритмический эффект соталола наиболее выражен при низкой частоте сердечных сокращений, что приводит к увеличению риска TdP у пациентов с синусовой брадикардией. В исследовании PAFAC у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий на фоне приёма соталола ТdР развивалась у 1% больных [39]. Проаритмия, вероятно, является причиной роста смертности при терапии соталолом у пациентов с постинфарктной дисфункцией левого желудочка [40]. Риск развития ТdР возрастает у женщин при высоких дозах препарата (>320 мг/сут), а также у пациентов с брадикардией, исходной длиной интервала Q–Тс >450 мс, электролитными нарушениями (гипокалиемией и гипомагниемией), тяжёлой левожелудочковой недостаточностью, получающих препараты, удлиняющие интервал Q–Т, или с синдромом врождённого удлинённого интервала Q–Т. Показано, что среднее время развития проаритмогенного эффекта от начала приёма составило 64 дня [8].
Контроль безопасности соталола
Рекомендуется проводить оценку ЭКГ: перед назначением данного ААП, затем первые 3 дня приёма; затем через 1 и 4 недели, далее каждые 6 месяцев [14]. Кроме того, необходимо каждые 3–6 месяцев оценивать концентрации креатинина, магния и калия в сыворотке крови, так как соталол имеет преимущественно почечную экскрецию [41]. Так, в исследовании A. Rabatin показано, что приём соталола два раза в день у пациентов с хронической болезнью почек увеличивает частоту проаритмических осложнений [42].
Согласно консенсусному документу Европейской ассоциации кардиологов и фармакологов (2018), для ААП III класса предикторами повышенного риска желудочковой проаритмии являются:
- интервал Q–Tс >460 мс;
- брадикардия (частота сердечных сокращений <50 в минуту);
- удлинение Q–Tс на фоне терапии (>550 мс или >25%);
- структурные заболевания сердца;
- гипокалиемия или гипомагниемия;
- снижение функции почек;
- высокая доза препарата или быстрое увеличение дозы;
- проаритмии в анамнезе [7].
К сожалению, классические подходы к контролю безопасности при назначении ААП, основанные на оценке параметров ЭКГ, функций печени, почек, щитовидной железы и лёгких, а также на выявлении сердечной патологии (например, синдрома удлинения интервала Q–Tс), не всегда позволяют избежать нежелательных лекарственных реакций.
Перспективные методы контроля безопасности антиаритмической терапии
К перспективным подходам к контролю безопасности ААП можно отнести терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) — назначение лекарственный препаратов под контролем их концентрации в сыворотке крови для повышения эффективности и безопасности фармакотерапии [43, 44]. Тем более, что некоторые ААП имеют узкий терапевтический диапазон (разница между эффективной терапевтической и токсической дозами невелика) [7]. В настоящее время известен терапевтический диапазон концентрации прокаинамида (4–12 мкг/мл) [45], амиодарона (500–2000 нг/мл) [46], пропафенона (40–3000 нг/мл) [47] и соталола (1–3 мкг/мл) [45].
Роль ТЛМ для контроля антиаритмической терапии продемонстрирована Y. Gui и соавт. [48]. Показано, что ТЛМ необходим для оптимального назначения ААП при лечении нарушений ритма сердца и предотвращения развития побочных эффектов.
Терапевтический лекарственный мониторинг амиодарона
В доступной литературе данные об эффективности ТЛМ амиодарона противоречивы. Метаанализ A. Jоrgensen и соавт. показал, что антиаритмический эффект амиодарона не коррелирует с концентрацией в крови, и рутинное использование ТЛМ в поддерживающей терапии является спорным [49]. В метаанализе E. Hrudikova Vyskocilova и соавт. указывается, что концентрация амиодарона в плазме в диапазоне от 0,5 до 2,5 мг/л, по-видимому, является наиболее безопасной [50].
Терапевтический лекарственный мониторинг пропафенона
Считается, что одной из причин различий антиаритмической эффективности пропафенона у пациентов являются генетические полиморфизмы [51]. В работе K. Doki и соавт. показано, что антиаритмическая эффективность пропафенона связана с его максимальной концентрацией, а также — с влиянием гаплотипа B промотора гена SCN5A [52]. Кроме того, в исследовании отмечено, что риск развития побочных эффектов на фоне терапии пропафеноном связан с низкой активностью CYP2D6 [53].
Исследования, сосредоточенные на специфических аллелях CYP2D6 и концентрациях препарата пропафенон, продемонстрировали, что «слабые метаболизаторы» CYP2D6 имели более высокие концентрации препарата [54, 55]. В исследовании L. Siddoway показано, что повышенный риск неврологических побочных эффектов при приёме пропафенона связан с его низким метаболизмом по сравнению с «быстрыми метаболизаторами» [56].
Таким образом, назначение пропафенона под контролем концентрации может помочь выявить нарушения метаболизма, увеличить эффективность и безопасность терапии.
Терапевтический лекарственный мониторинг соталола
В доступной литературе имеются ограниченные данные о роле ТЛМ при терапии соталолом. Считается, что данным метод может быть полезен у пациентов с тяжёлой почечной дисфункцией для контроля безопасности и определения режима дозирования препарата [57].
В доступной литературе данные о ТЛМ диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазина и лаппаконитина гидробромида отсутствуют.
Заключение
ААП обладают широким спектром побочных эффектов, среди которых выделяют кардиальные (в том числе проаритмические), экстракардиальные и связанные с межлекарственными взаимодействиями. Предикторами побочных эффектов ААП IC, III классов являются заболевания печени и почек, структурные поражения сердца, скрытые нарушения проводящей системы сердца, генные полиморфизмы.
Классические подходы к контролю безопасности ААП (контроль ЭКГ, гормонов щитовидной железы, электролитов, функции печени и почек) не всегда бывают эффективными в клинической практике. К перспективным методам прогноза побочных эффектов ААП относится ТЛМ и оценка полиморфизмов.
Дополнительная информация
Вклад авторов. С.В. Селезнев, А.В. Щулькин, С.С. Якушин — идея исследования, обсуждение результатов, финальное редактирование текста; С.В. Селезнев, С.П. Филоненко, Н.В. Ененков — обсуждение результатов, написание статьи, финальное редактирование текста; Н.В. Ененков — поиск и отбор источников, написание статьи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима, новые данные не собирали и не создавали.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали два внешних рецензента, член редакционной коллегии и научный редактор издания.
Additional information
Author contributions: S.V. Seleznev, A.V. Shchulkin, S.S. Yakushin: conceptualization, validation, writing—review & editing; S.V. Seleznev, S.P. Filonenko, N.V. Enenkov: validation, writing—original draft, writing—review & editing; N.V. Enenkov: investigation, writing—original draft. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: In creating this work, the authors did not use previously published information (text, illustrations, data).
Data availability statement: The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work, and no new data was collected or created.
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer-review: This paper was submitted to the journal on an unsolicited basis and reviewed according to the usual procedure. Two external reviewers, a member of the editorial board, and the scientific editor of the publication participated in the review.
1 Торговое название лекарственного средства
About the authors
Nikita V. Enenkov
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Author for correspondence.
Email: enenckow2013@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7430-9359
SPIN-code: 5431-9170
Russian Federation, Ryazan
Sergey V. Seleznev
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Email: sv.seleznev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4069-8082
SPIN-code: 4532-5622
MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Russian Federation, RyazanAleksey V. Shchulkin
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Email: alekseyshulkin@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0003-1688-0017
SPIN-code: 2754-1702
MD, Dr. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Russian Federation, RyazanSergey P. Filonenko
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Email: dr.filonenko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6658-2072
SPIN-code: 1106-0648
MD, Cand. Sci. (Medicine), Assistant Professor
Russian Federation, RyazanSergey S. Yakushin
Ryazan State Medical University named after Academician I.P. Pavlov
Email: prof.yakushin@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1394-3791
SPIN-code: 7726-7198
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, RyazanReferences
- Korshikova AA, Pereverzeva KG, Yakushin SS. Dynamics of prescribing antithrombotic therapy to patients with atrial fibrillation hospitalized for myocardial infarction in 2016-2021. I.P. Pavlov Russian medical biological herald. 2023;31(3):405–414. doi: 10.17816/PAVLOVJ109417 EDN: MNALHT
- Al-Gobari M, El Khatib C, Pillon F, et al. β-Blockers for the prevention of sudden cardiac death in heart failure patients: a meta-analysis of randomized controlled trials BMC. Cardiovasc Disord. 2013;13(13):52. doi: 10.1186/1471-2261-13-52 EDN: YDMJBZ
- Markman TM, Geng Z, Epstein AE, et al. Trends in antiarrhythmic drug use among patients in the United States between 2004 and 2016. Circulation. 2020;141(11):937–939. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.119.044109 EDN: VXWLNA
- Poulsen CB, Damkjær M, Løfgren B, Schmidt M. Trends in antiarrhythmic drug use in Denmark over 19 years. Am J Cardiol. 2020;125(4):562–569. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.11.009 EDN: WSBYUU
- Tarasov AV. Safety issues of antiarrhythmic therapy. Consilium Medicum. 2014;16(10):44–49. EDN: SXCNNF
- Dan GA, Martinez-Rubio A, ESC Scientific Document Group. Antiarrhythmic drugs-clinical use and clinical decision making: a consensus document from the European Heart Rhythm Association (EHRA) and European Society of Cardiology (ESC) Working Group on Cardiovascular Pharmacology, endorsed by the Heart Rhythm Society (HRS), Asia-Pacific Heart Rhythm Society (APHRS) and International Society of Cardiovascular Pharmacotherapy (ISCP). Europace. 2018;20(5):731–732. doi: 10.1093/europace/eux373 EDN: YHLLBJ
- Yakushin SS, Nikulina NN, Filippov EV. Results of the pilot part of the cardiac drug overdoses hospital registry (STORM): focus on drug-induced bradycardia. I.P. Pavlov Russian medical biological herald. 2020;28(2):153–163. doi: 10.23888/PAVLOVJ2020282153-163 EDN: AODSPJ
- Wang F, Zhou B, Sun H, Wu X. Proarrhythmia associated with antiarrhythmic drugs: a comprehensive disproportionality analysis of the FDA adverse event reporting system. Front Pharmacol. 2023;14:1170039. doi: 10.3389/fphar.2023.1170039 EDN: KVNSQG
- Lin CY, Lin YJ, Lo LW, et al. Factors predisposing to ventricular proarrhythmia during antiarrhythmic drug therapy for atrial fibrillation in patients with structurally normal heart. Heart Rhythm. 2015;12(7):1490–1500. doi: 10.1016/j.hrthm.2015.04.018
- Mansourati J, Khattar P. Benefit and concern about the "pill-in-the-pocket". J Med Liban. 2013;61(2):101–104. doi: 10.12816/0000410
- Tisdale JE, Chung MK, Campbell KB. Drug-Induced Arrhythmias: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation. 2020;142(15):214–233. doi: 10.1161/CIR.0000000000000905 EDN: QPZRVI
- Mrochek AG, Gubar EN. The effectiveness of allapinin in patients with coronary artery disease with various rhythm disturbances. Russian Journal of Cardiology. 2010;5(85):116–121. EDN: NYLQWN
- Sokolov SF. Results of a clinical study of the drug allapinin and modern approaches to the treatment of patients with cardiac arrhythmias. Bulletin of Arrhythmology. 2011;64:60–70. EDN: OYEMQJ
- Arakelyan MG, Bockeria LA, Vasilyeva EYu, et al. 2020 clinical guidelines for atrial fibrillation and atrial flutter. Russian Journal of Cardiology. 2021;26(7):4594. doi: 10.15829/1560-4071-2021-4594 EDN: FUZAAD
- Syrov AV, Pavlova TV. Antiarrhythmic medication propafenone: place in clinical practice (review). Consilium Medicum. 2019;21(12):112–117. doi: 10.26442/20751753.2019.12.190724 EDN: RVRPJA
- Martino E, Bartalena L, Bogazzi F, Braverman LE. The effects of amiodarone on the thyroid. Endocr Rev. 2001;22(2):240–254. doi: 10.1210/edrv.22.2.0427
- Trohman RG, Sharma PS, McAninch EA, Bianco AC. Amiodarone and thyroid physiology, pathophysiology, diagnosis and management. Trends Cardiovasc Med. 2019;29(5):285–295. doi: 10.1016/j.tcm.2018.09.005 EDN: YMAIHB
- Mediс F, Bakula M, Alfireviс M, et al. Amiodarone and thyroid dysfunction. Acta Clin Croat. 2022;61(2):327–341. doi: 10.20471/acc.2022.61.02.20 EDN: JUFRPO
- Cheung AT, Weiss SJ, Savino JS, et al. Acute circulatory actions of intravenous amiodarone loading in cardiac surgical patients. Ann Thorac Surg. 2003;76(2):535–541. doi: 10.1016/s0003-4975(03)00509-5
- Sinopalnikov AI, Tikhomirov ES, Smirnov IP, Duganov VK, Kharlanov VD. The case of “amiodarone lung”. Pulmonology. 1994;2:83–86. (In Russ.)
- Ruzieh M, Moroi MK, Aboujamous NM, et al. Meta-analysis comparing the relative risk of adverse events for amiodarone versus placebo. Am J Cardiol. 2019;124(12):1889–1893. doi: 10.1016/j.amjcard.2019.09.008
- Colby R, Geyer H. Amiodarone-induced pulmonary toxicity. JAAPA. 2017;30:23–26. doi: 10.1097/01.JAA.0000524713.17719.c8
- Koenig RJ. Regulation of type 1 iodothyronine deiodinase in health and disease. Thyroid. 2005;15(8):835–840. doi: 10.1089/thy.2005.15.835
- Harjai KJ, Licata AA. Effects of amiodarone on thyroid function. Ann Intern Med. 1997;126(1):63–73. doi: 10.7326/0003-4819-126-1-199701010-00009
- Albert SG, Alves LE, Rose EP. Thyroid dysfunction during chronic amiodarone therapy. J Am Coll Cardiol. 1987;9(1):175–183. doi: 10.1016/s0735-1097(87)80098-0
- Mohammadi K, Shafie D, Vakhshoori M, et al. Prevalence of amiodarone-induced hypothyroidism; A systematic review and meta-analysis. Trends Cardiovasc Med. 2023;33(4):252–262. doi: 10.1016/j.tcm.2022.01.001 EDN: DHXZOL
- Biddle JR. Amiodarone and thyroid function. Ann Intern Med. 1997;127(8 Pt 1):653. doi: 10.7326/0003-4819-127-8_part_1-199710150-00020
- Basaria S, Cooper DS. Amiodarone and the thyroid. Am J Med. 2005;118(7):706–714. doi: 10.1016/j.amjmed.2004.11.028
- Vassallo P, Trohman RG. Prescribing amiodarone: an evidence-based review of clinical indications. JAMA. 2007;298(11):1312–1322. doi: 10.1001/jama.298.11.1312
- Jaworski K, Walecka I, Rudnicka L, et al. Cutaneous adverse reactions of amiodarone. Med Sci Monit. 2014;21(20):2369–2372. doi: 10.12659/MSM.890881
- Johnson LN, Krohel GB, Thomas ER. The clinical spectrum of amiodarone-associated optic neuropathy. J Natl Med Assoc. 2004;96(11):1477–1491.
- Passman RS, Bennett CL, Purpura JM, et al. Amiodarone-associated optic neuropathy: a critical review. Am J Med. 2012;125(5):447–553. doi: 10.1016/j.amjmed.2011.09.020
- Su VY, Hu YW, Chou KT, et al. Amiodarone and the risk of cancer: a nationwide population-based study. Cancer. 2013;119(9):1699–1705. doi: 10.1002/cncr.27881
- Lim YP, Lin CL, Lin YN, et al. Antiarrhythmic agents and the risk of malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts. PloS One. 2015;10(1):e0116960. doi: 10.1371/journal.pone.0116960
- Chen YY, Chen CY, Leung KK. Acute pancreatitis and amiodarone: a case report. World J Gastroenterol. 2007;3(6):975–977. doi: 10.3748/wjg.v13.i6.975
- Famularo G, Minisola G, Nicotra GC, et al. Acute pancreatitis caused by amiodarone. Eur J Emerg Med. 2004;11(5):305–306. doi: 10.1097/00063110-200410000-00015
- Singh JP, Blomström-Lundqvist C, Turakhia MP, et al. Dronedarone versus sotalol in patients with atrial fibrillation: A systematic literature review and network meta-analysis. Clin Cardiol. 2023;46(6):589–597. doi: 10.1002/clc.24011 EDN: KRXHOR
- Samanta R, Thiagalingam A, Turner C, et al. The Use of Intravenous Sotalol in Cardiac Arrhythmias. Heart Lung Circ. 2018;27(11):1318–1326. doi: 10.1016/j.hlc.2018.03.017 EDN: YHZOAX
- Fetsch T, Bauer P, Engberding R, et al. Prevention of atrial fibrillation after cardioversion: results of the PAFAC trial. Eur Heart J. 2004;25:1385–1394. doi: 10.1016/j.ehj.2004.04.015
- Lafuente-Lafuente C, Valembois L, Bergmann JF, Belmin J. Antiarrhythmics for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation. Cochrane Database Syst Rev. 2015;28(3):CD005049. doi: 10.1002/14651858.CD005049
- Joglar JA, Chung MK, Armbruster AL, et al. 2023 ACC/AHA/ACCP/HRS Guideline for the Diagnosis and Management of Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2024;149(1):1–156. doi: 10.1161/CIR.0000000000001193 EDN: VPOKXQ
- Rabatin A, Snider MJ, Boyd JM, et al. Safety of Twice Daily Sotalol in Patients with Renal Impairment: A Single Center, Retrospective Review. J Atr Fibrillation. 2018;11(3):2047. doi: 10.4022/jafib.2047
- Ates HC, Roberts JA, Lipman J, et al. On-Site Therapeutic Drug Monitoring. Trends Biotechnol. 2020;38(11):1262–1277. doi: 10.1016/j.tibtech.2020.03.001 EDN: CSJMWR
- Mylnikov PYu, Tranova Yu, Shchulkin AV, et al. Development and validation of hplc-ms/ms method for quantitative determination of metoprolol in blood plasma of patients. Eruditio Juvenium. 2022;10(4):361–372. doi: 10.23888/HMJ2022104361-372 EDN: VESREJ
- Campbell TJ, Williams KM. Therapeutic drug monitoring: antiarrhythmic drugs. Br J Clin Pharmacol. 1998;46(4):307–319. doi: 10.1046/j.1365-2125.1998.t01-1-00768.x EDN: EUDQYP
- Baer DM. Critical values for therapeutic drug levels. MLO: medical laboratory observer. 2012;36(13 Suppl):9.
- Hiji JT, Duff JH, Burgess ED. Clinical pharmacokinetics of propafenone. Clin Pharmacokinet. 1991;21(1):1–10. doi: 10.2165/00003088-199121010-00001 EDN: OKDFJP
- Gui Y, Lu Y, Li S, Zhang M, et al. Direct analysis in real time-mass spectrometry for rapid quantification of five anti-arrhythmic drugs in human serum: application to therapeutic drug monitoring. Sci Rep. 2020;10(1):15550. doi: 10.1038/s41598-020-72490-w EDN: LRCCUL
- Jоrgensen AM, Hermann TS, Christensen HR, et al. Use of Therapeutic Drug Monitoring in Amiodarone Treatment: A Systematic Review of Recent Literature. Ther Drug Monit. 2023;45(4):487–493. doi: 10.1097/FTD.0000000000001079 EDN: XBYAUO
- Hrudikova Vyskocilova E, Grundmann M, Duricova J, Kacirova I. Therapeutic monitoring of amiodarone: pharmacokinetics and evaluation of the relationship between effect and dose/concentration. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2017;161(2):134–143. doi: 10.5507/bp.2017.016
- Stoschitzky K, Stoschitzky G, Lercher P, et al. Propafenone shows class Ic and class II antiarrhythmic effects. Europace. 2016;18(4):568–571. doi: 10.1093/europace/ euv195
- Doki K, Shirayama Y, Sekiguchi Y, et al. Optimal sampling time and clinical implication of the SCN5A promoter haplotype in propafenone therapeutic drug monitoring. Eur J Clin Pharmacol. 2018;74(10):1273–1279. doi: 10.1007/s00228-018-2541-2
- Sunthankar SD, Kannankeril PJ, Gaedigk A, et al. Influence of CYP2D6 genetic variation on adverse events with propafenone in the pediatric and young adult population. Clin Transl Sci. 2022;15(7):1787–1795. doi: 10.1111/cts.13296 EDN: HSOWHZ
- Doki K, Shirayama Y, Sekiguchi Y, et al. Effect of CYP2D6 genetic polymorphism on peak propafenone concentration: no significant effect of CYP2D6*10. Pharmacogenomics. 2020;2:1279–1288. doi: 10.2217/pgs-2020-0105 EDN: AEYMKN
- Morike K, Kivistö KT, Schaeffeler K, et al. Propafenone for the prevention of atrial tachyarrhythmias after cardiac surgery: a randomized, double-blind placebo-controlled trial. Clin Pharmacol Ther. 2008;84:104–110. doi: 10.1038/sj.clpt.6100473
- Siddoway LA, Thompson KA, McAllister CB, et al. Polymorphism of propafenone metabolism and disposition in man: clinical and pharmacokinetic consequences. Circulation. 1987;75:785–791. doi: 10.1161/01.cir.75.4.785
- Neuvonen P, Elonen E, Tarssanen L. Sotalol intoxication, two patients with concentration-effect relationships. Acta Pharmacol Toxicol. 1979;45:52–57. doi: 10.1111/j.1600-0773.1979.tb02360.x
Supplementary files